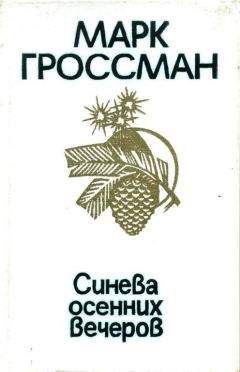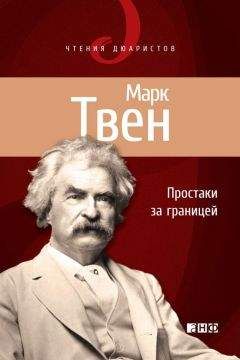Марк Гроссман - Веселое горе — любовь.
В это время снаружи послышались звуки быстрых шагов, дверь на чердак распахнулась, и в ее светлом квадрате, как в раме, появилась стройная фигурка Нади.
— Вы заждались? — спросила она еще от двери. — А я искала в подвале грибки. Те, что папа больше других любил.
Девочка поставила на столик тарелку с грибками, такими ровняшками — белыми и синими — точно все они были детки одной матери и родились в один и тот же миг.
Надя усадила меня на единственную табуретку. Сама постелила тряпицу на деревянную балку и села, обхватив колени руками.
Леночка попросила разрешения посмотреть на голубят и теперь, пройдя за сетку, тихо беседовала с малышами.
На чердаке было почти беззвучно.
— Что ж ты — позвала в гости и молчишь?
Надя взглянула на меня снизу вверх, легонько улыбнулась:
— Отец говорил: не спеши языком, торопись делом. Вот перекусите, тогда уж...
Я поел грибков, спросил:
— У тебя зачем со́сенка тут стоит? Ты б ее подрезала немного. Ненароком глаз выколешь.
Надя покачала головой:
— Не люблю я стриженых деревьев.
Внезапно она встала, подошла ко мне, положила локти на стол.
— Рядом с матерой сосной, бывает, сосна-малышка стоит. От одного корня. Дочь или сынок. Видели?
Она задумалась и пояснила с заметной гордостью:
— Вот и я так при отце жила. Лесник. Как трава растет, думаю, слышал. Понимал, где гриб искать, птичьи слова знал.
Самодум он у меня был. Обо всем свое понятие имел. На колени меня посадит, дымком от трубочки обрастет, спросит:
— А правда, что зайчишка — трус? Ну?
Я затороплюсь, закиваю головой. Отец усмехнется:
— А ты подумай!
И выходило из его слов, что у косого — храброе сердце И еще он рассказывал, отчего бабочка-стекляница похожа на шершня, и почему тихая улитка выживает на земле, и как себя волки лечат.
Я все просила, чтоб отец меня на охоту взял. Он отговаривал:
— Охота — трудная работа. Ты по себе в жизни дерево руби.
Придя из леса, сажал меня на колени и пел:
Баю-баюшки-баю,
Колотушек надаю!
Я знала: колотушки — только для песенки — и все же сердилась — зачем он из меня маленькую делает?
Он очень любил петь, и всегда в его песнях шумели веточки и пахло кедровым орешком, и еще чем-то — стреляным порохом, может быть.
В восемь моих лет отец достал из сундучка легкое ружьецо, двадцатый калибр, ижевку, объявил:
— Для начала это. Ну-ка пальни!
Я просунула ложе под мышку — ружье-то длинное, никак к плечу не приставишь — и пальнула. Отец снял с ветки спичечный коробок, долго оглядывал его, сказал, вздыхая:
— Ни дробины. Иди домой, дурочка.
Я попросила:
— Дай еще стре́лить Попаду.
Отец нахмурился:
— Не горячись — простынешь.
Мама послушала меня, сказала:
— Вот и ладно. Нечего в лесу ходить. Дерева да звери, больше там ничего нет. Зачем тебе?
На другую весну отец стал собираться в лес, поглядел, как я обшивала своих кукол, заметил:
— День долог, а век короток, дочка.
И крикнул матери:
— Подвяжи ка ей мешочек за спину. Лесовать пойдем.
Мама поджала губы, вздохнула и стала нам готовить еду в дорогу.
Я тогда про тайгу так думала: это, как глубокое зеленое море, а мы пойдем с отцом по его дну, и кругом будут Кащеи Бессмертные и русалки. А посередке сидит волосатый таежный бог, и брови у него, как сосновые лапы.
Мы шли по тропочкам и даже без дорожек. Скажешь что бате, а он идет молча, потом кинет на меня глазом:
— А? Что ты спросила, Надя?
Я уже после поняла: он шел и думал, все подмечал, что в болотечке, на траве, под ветками. Станет вдруг, приложит ладонь к уху, нахмурится:
— Заболела старенькая...
— Кто заболел?
— Сосна вон та. Разве не ясно?
— А почему?
— Ну — просто. Глянь, на ней дятел сидит, кормится. Значит, жучки-короеды в дереве. Хворает сосна.
А то сорвет на ходу головку поникшего чертополоха, тронет пальцем колючки. Потом взглянет на тучки, качнет головой:
— Вёдро будет, дочка. Без дождя пойдем.
И уже без вопроса пояснит:
— Когда несильно колется — к дождю. Это оттого, что жмутся перед непогодой колючки к головке и, выходит, тихо ранят палец. Ну, а коли к вёдру — растопырит сорняк иголки и жалит, как комар. Вот и сейчас так.
К ночи мы остановились у озера, отец сделал шалашку, разжег костер. Я лежала под ветками, слушала, как вздыхает вода, и смотрела в дырочки на звезды. И мне опять казалось, что я — на дне моря, а с берега на меня смотрят всякие глаза — и хорошие, и плохие.
Ночью проснулась. Сильно трещал костер, и прямо над головой, казалось, уныло кричал козодой, — есть такая птица.
Я открыла глаза и увидела: у костра сидят дедушка Трофим и еще один, не знакомый мне совсем человек. Дедушка Трофим называл его, незнакомого, Тишей.
— А что ж, — говорил дедушка Трофим, — очень даже это может быть, паря. Верный человек сказывал: в Увильдах щуку поймали за три пуда и карпа в пуд. Давненько, а было.
Отец смотрел, прищурясь, в огонек костра. Отзывался задумчиво:
— У нас на Урале, дед, все крупно. И доброе, и худое.
Тиша сосал трубочку, покачивал головой каким-то своим мыслям, молчал.
Дедушка Трофим увидел, что я проснулась, скорчил смешное лицо:
— Ну, здравствуй, вертуша!
Я сказала, что они — как все равно из леса выскочили, из ночи.
— Так и есть, — усмехнулся дедушка Трофим. — Как побагрянит облака зарей да ветер-го́рыч задует, так мы и в лес — шабаш править.
Помолчал, добавил задумчиво:
— Дружны мы с твоим отцом, будто нас черт веревочкой связал. Оттого и сошлись теперь.
Пожевал усы, сказал серьезно:
— Лес — он живой, Надя. У каждого деревца своя мордочка есть.
Отец молча курил трубку, глядел, не мигая, в огонь, и глаза у него были белые и странные.
— А вот ты познакомься с Тишей, — вдруг промолвил дедушка Трофим, — безжелчный он человек и рассказчик хороший.
Волос на Тише был бел, как снег, и жидок. Тощие прядки спускались на лоб, натекали на уши, и от этого он казался, и вправду, лешим-лесовиком.
Отец мне рассказывал после, что предки Тиши пришли на Урал пешком с Украины. Тогда, двести лет назад, Россия укрепляла свои границы по Яику.
Пришлые люди построили десяток крепостей и затем двинулись на север. Здесь, в лесных дебрях горного хребта, они возвели еще три крепости и остались в них на житье.
В ту пору уже трудно было отличить южного казака от коренного — так переплелись их обычаи и язык.
Дед Тиша сохранил от предков украинскую речь — правда, она сильно смешалась с русской — и веселую доброту южан. При всем том он был осмотрительный и трезвый человек.